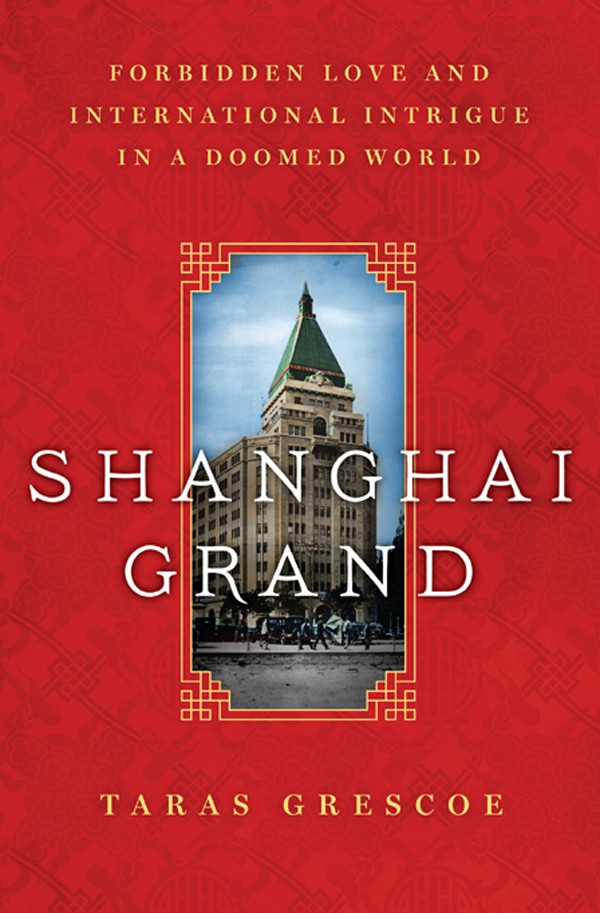на набережной Пудун, к своему удивлению, я обнаружил, что прогуливаюсь мимо луковичного купола русской православной церкви по затененному платанами бульвару бывшей Французской концессии и пью чай в особняке давно умершего британского газетного магната, построенном в стиле тюдоровского возрождения. Полвека застоя в сочетании с новым желанием сохранить архитектуру - пусть даже в качестве фона для съемок фильмов и свадебных фотографий - помогли сохранить большую часть старого Шанхая. Я бродил по зданиям, которые казались декорациями из фильма "Бегущий по лезвию": коридоры готамских башен, в застекленных вестибюлях которых все еще значились имена жильцов из высшего общества тридцатых годов, теперь освещались голыми электрическими лампочками, были забиты велосипедами и мотороллерами и благоухали травой. Тогда я этого не знал, но, пока я бродил по тротуарам района, когда-то известного всему миру как Международное поселение, мое воображение уже поселилось в городе, которого я никогда не знал: злом старом Париже Востока, городе, чьи главные достопримечательности были законсервированы в аспике в течение полувека.
Чем больше я узнавал о дореволюционном Шанхае, тем больше очаровывался людьми, которые там околачивались. Там был Моррис "Двустволка" Коэн, еврейский драчун из лондонского Ист-Энда, который после спасения жизни кантонского повара в канадских прериях получил звание генерала в движении за освобождение Китая от семивекового маньчжурского господства. Была и "принцесса" Сумайр, племянница самого богатого махараджи Пенджаба, которая, поработав манекенщицей в Париже, скандализировала шанхайское общество своей открытой бисексуальностью и громкими романами с японскими аристократами и агентами гестапо. Был и тройной агент Требич Линкольн, профессиональный оборотень, чья карьера - от сына раввина в Будапеште до протестантского миссионера в Монреале и бритоголового буддийского аббата в Шанхае - читалась как задняя обложка триллера в мягкой обложке. Это был такой яркий состав мошенников, интриганов, эксгибиционистов, двуличных дельцов и самодельных злодеев, какой только можно было собрать в одном месте, и все они пересекались в вестибюлях отелей, эксклюзивных клубах и причалах довоенного Шанхая.
Если меня завораживали личности, собравшиеся в этом "раю авантюристов", то я влюбилась в Микки Ханн, журналистку и искательницу приключений из Сент-Луиса, которая записала всю эту безумную историю на бумаге. Пытаясь исправить разбитое сердце, она импульсивно спрыгнула на океанский лайнер из Сан-Франциско и в итоге восемь лет прожила в Китае и Гонконге. Окончательно я убедился в этом, когда увидел ее портрет, сделанный примерно в то время, когда она делилась пьяными секретами с Дороти Паркер в дамской комнате отеля "Алгонкин". На фотографии у нее по-мальчишески короткие волосы, бледная кожа на фоне черной блузки, полные губы приоткрыты, когда она смотрит на обезьянку-капуцина (по кличке Панк), сидящую на ее левом плече. В эпоху расцвета стиля "флаппер" она выглядела как протобитник, одна из прирожденных индивидуалисток. Я начала читать ее книги: путевые заметки о путешествии через Конго с трехлетним мальчиком-пигмеем; воспоминания о том, как она бросила вызов сексизму и стала первой женщиной-инженером, окончившей Висконсинский университет; эссе о жизни на ранчо Д.Х. Лоуренса в Нью-Мексико, где она пристрастилась к кукурузному ликеру и встречалась с ковбоями, работая проводником по тропам. Мне понравился ее стиль (смелый в моде, легкий в прозе), полное отсутствие снобизма и предрассудков, ее хрупкое, но бесстрашное сердце. В давно вышедших из печати книгах о ее азиатских приключениях она вела меня именно туда, куда я хотела попасть: на инсайдерскую прогулку на рикше, пересекавшую ушедший Шанхай, по переулкам, гулко отдававшимся стуком плиток для маджонга и благоухавшим сладким миндальным отваром, опиумным дымом и химическим укусом инсектицида "Флит".
И я познакомился с ее друзьями, которых было великое множество. Среди них были тайпаны, богатые бизнесмены, которых она любила шокировать, затягиваясь сигарой в таких ночных заведениях, как Ciro's и Tower Club, и их жены, тайтаи, среди которых была Бернардина Шолд-Фритц, чей салон объединял китайскую и европейскую интеллигенцию. (Бернардина, глубоко влюбленная в Зау Синмая, позже пожалеет о том вечере, когда она познакомила поэта с Микки). Были и такие бродячие репортеры, как Марта Геллхорн, тоже из Сент-Луиса, которая во время медового месяца с Эрнестом Хемингуэем разыскала Микки, чтобы узнать о его контактах в китайской армии. Были в Китае и иностранные журналисты - так называемая "миссурийская мафия", среди которых Джон Б. Пауэлл, курящий кукурузную трубку редактор "China Weekly Review", и Эдгар Сноу, который отправлялся за мулетером в отдаленные горы провинции Шэньси и возвращался с первыми статьями западного человека, посвященными Мао Цзэдуну и его повстанческой армии.
Самым интригующим из всех был сэр Виктор Сассун, третий баронет Бомбея, который, сфотографировав Микки в обнаженном виде в частной студии в своем пентхаусе, пустил языки, подарив ей пудрово-голубое купе Chevrolet, на котором она могла разъезжать по городу. Сэр Виктор, говоривший на лучшем оксбриджском английском, вел свою родословную от древнего рода сефардских евреев, служивших при дворе вавилонского паши и претендовавших на происхождение от пятого сына царя Давида. В то время как мир погружался в Великую депрессию, он беззастенчиво объезжал самые модные ночные заведения Шанхая в шляпе и фраке, обычно с гвоздикой из собственного сада в лацкане, выглядя при этом как карикатура на мультимиллионера на карточке "Шанс" из "Монополии".
Дружба Микки не ограничивалась Шанхайлендерами*, привилегированными эмигрантами, которые называли себя естественным правящим классом китайского побережья. Она научилась говорить по-шанхайски, а позже читать и писать по-мандарински; ее различные квартиры стали салонами для китайских писателей и убежищами для коммунистических партизан в бегах. Именно флирт Микки с Зау Синмаем в конечном итоге принес ей связи, которые сделали ее уважаемым биографом ведущей политической династии Китая. И именно их постоянные отношения, спасшие Микки жизнь во время японской оккупации, вполне могли свести Зау в могилу раньше времени.
Теперь, спустя семь лет после моего первого визита в Шанхай, я возвращался с кладбища на окраине города, и мои вопросы о судьбе Зау Синмая все еще оставались без ответа. С моего пластмассового сиденья в пастельно-розовом автобусе на скоростном шоссе Гюйю мне открывался привилегированный вид на новый мегаполис. Хотя мы мчались со скоростью пятьдесят миль в час, стеклянные и бетонные башни продолжали проноситься мимо почти полчаса - квартиры высотой в двадцать, тридцать, сорок этажей, расположенные все более плотно друг к другу по мере приближения к Бунду. Сквозь пелену загрязнения я разглядел на шоссе вывеску Государственной сетевой корпорации, китайской электрокомпании, работающей на угле, на которой синим неоном горела надпись "Чистая энергия на пути к гармоничному будущему".
После остановки у многополосного платного участка мой автобус влился в трассу на верхней площадке надземной дороги Яньань - смелого произведения